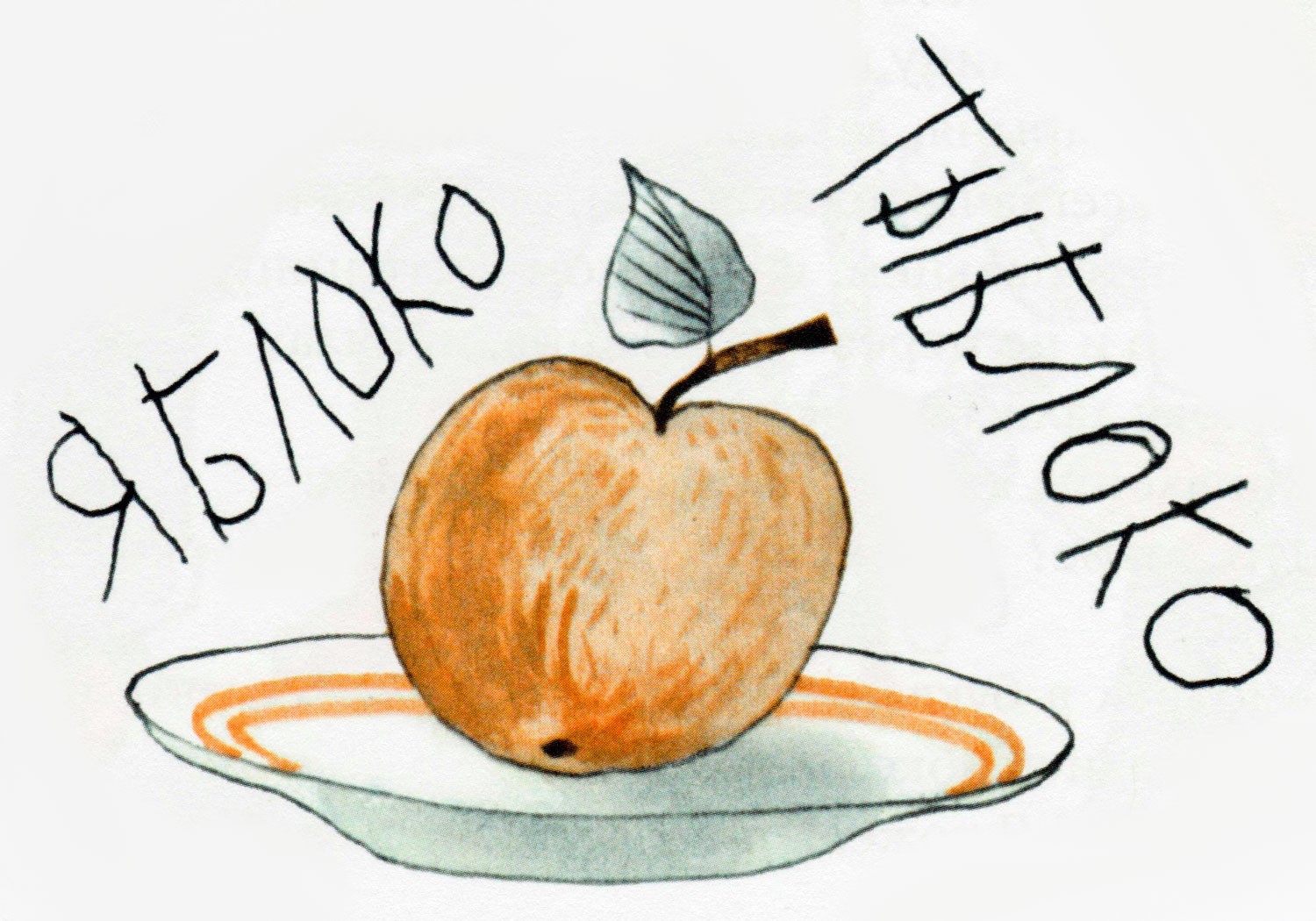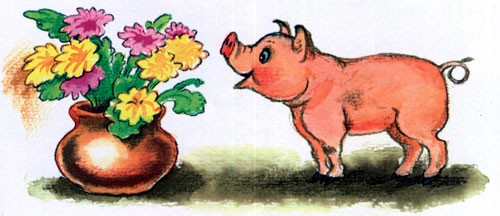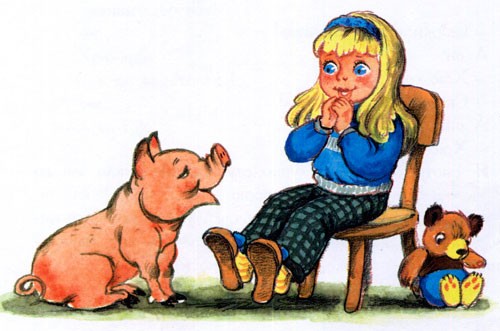На улицах еще не совсем рассвело, и синие лампочки еще горели у подъездов и над воротами домов, а Володька Бессонов уже бежал в школу. Бежал он очень быстро, — во-первых, потому, что на улице было холодно: говорят, что таких морозов, как в этом, 1940 году, в Ленинграде не было уже сто лет; а во-вторых, Володьке очень хотелось самым первым явиться сегодня в класс. Вообще-то он не был особенно прилежным и выдающимся мальчиком. В другое время он, пожалуй, и опоздать не постеснялся бы. А тут — в первый день после каникул — было почему-то здорово интересно прийти именно первым и потом на каждом шагу и где только можно говорить:
— А вы знаете, я сегодня первый пришел!..
Он даже не остановился, чтобы посмотреть на огромные, выкрашенные в белую краску танки, которые, покачиваясь и оглушительно громыхая, проходили в это время по улице. Да это было и не очень-то интересно, — танков теперь в городе было, пожалуй, побольше, чем трамваев.
На одну минуту только остановился Володька на углу — послушать радио. Передавали оперативную сводку штаба Ленинградского военного округа. Но и тут ничего интересного не было сегодня: поиски разведчиков и на отдельных участках фронта ружейно-пулеметная и артиллерийская перестрелка…
В раздевалке тоже еще горела синяя лампочка. Старая нянюшка дремала, положив голову на деревянный прилавок, около пустых вешалок.
— Здрасти, нянечка! — заорал Володька, кидая свой портфель на прилавок.
Старуха испуганно вскочила и захлопала глазами.
— С добрым утром вас! Хорошего аппетита! — затараторил Володька, снимая пальто и галоши. — Что? Не ждали? А я ведь, вы знаете, первый пришел!!!
— А вот и врешь, балаболка, — сказала старуха, потягиваясь и зевая.
Володька оглянулся и увидел на соседней вешалке маленькое девичье пальто с белым, кошачьим или заячьим, воротником.
«Эх, надо же! — подумал он с досадой. — Какая-то фыфра обскакала на полкилометра…»
Он попытался по виду определить, чье это пальто. Но что-то не мог вспомнить, чтобы у какой-нибудь девочки в их классе было пальто с заячьим воротником.
«Значит, это из другого класса девчонка, — подумал он. — Ну, а из чужого класса не считается. Все равно я первый».
И, пожелав нянюшке «спокойной ночи», он подхватил свой портфель и поскакал наверх.
* * *
…В классе за одной из первых парт сидела девочка. Это была какая-то совсем незнакомая девочка — маленькая, худенькая, с двумя белокурыми косичками и с зелеными бантиками на них. Увидев девочку, Володька подумал, что он ошибся и заскочил не в свой класс. Он даже попятился обратно к двери. Но тут он увидел, что класс этот — никакой не чужой, а его собственный, четвертый класс — вон на стене висит рыжий кенгуру с поднятыми лапами, вон коллекция бабочек в ящике за стеклом, вон его собственная, Володькина, парта.
— С добрым утром! — сказал Володька девочке. — Хорошего аппетита. Как вы сюда попали?
— Я — новенькая, — сказала девочка очень тихо.
— Ну? — удивился Володька. — А почему — зимой! А чего ж ты так рано?
Девочка ничего не сказала и пожала плечами.
— Может быть, ты не в тот класс пришла? — сказал Володька.
— Нет, в этот, — сказала девочка. — В четвертый «Б».
Володька подумал, почесал затылок и сказал:
— Чур, я тебя первый увидел.
Он прошел к своей парте, внимательно осмотрел ее, потрогал для чего-то крышку, — все было в порядке; и крышка открывалась и закрывалась, как полагается.
В это время в класс вошли две девочки. Володька захлопнул парту и закричал:
— Кумачева, Шмулинская! Здравствуйте! С добрым утром! У нас новенькая!.. Я ее первый увидел…
Девочки остановились и тоже с удивлением посмотрели на новенькую.
— Правда? Новенькая?
— Да, — сказала девочка.
— А почему ты зимой? А как тебя зовут?
— Морозова, — сказала девочка.
Тут появилось еще несколько человек. Потом еще. И всем Володька объявлял:
— Ребята! У нас новенькая! Ее зовут Морозова. Я ее первый увидел.
Новенькую обступили. Стали разглядывать, расспрашивать. Сколько ей лет? И как ее зовут? И почему она зимой поступает в школу?
— Я не тутэшняя, — потому, — сказала девочка.
— Что значит «не тутэшняя»? Ты что — не русская?
— Нет, русская. Только я с Украины приихала.
— С какой? С Западной?
— Нет. С Восточной, — сказала девочка.
Отвечала она очень тихо и коротко и, хотя не смущалась нисколько, была какая-то грустная, рассеянная, и все время казалось, что ей хочется вздохнуть.
— Морозова, хочешь давай будем сидеть со мной? — предложила ей Лиза Кумачева. — У меня место свободное.
— Давай, все равно, — сказала новенькая и пересела на Лизину парту.
В этот день почти весь класс явился раньше, чем обычно. Каникулы в этом году тянулись почему-то необыкновенно долго и томительно.
Ребята не виделись всего две недели, но за это время у каждого накопилось новостей больше, чем в другое время за все лето.
Волька Михайлов ездил с отцом в Териоки, видел взорванные и сожженные дома и слышал — правда, издалека — настоящие артиллерийские выстрелы. У Любы Казанцевой бандиты ограбили сестру, сняли с нее меховую жакетку, когда она возвращалась вечером домой с фабрики. У Жоржика Семенова ушел добровольцем на войну с белофиннами брат, известный лыжник и футболист. А у Володьки Бессонова хотя своих новостей и не было, зато он «своими ушами» слышал, как в очереди одна старуха говорила другой, будто «своими глазами» видела, как в Парголове около кладбища постовой милиционер сбил из нагана финский бомбардировщик…
Володьке не поверили, знали, что он балаболка, но все-таки дали ему поврать, потому что все-таки это было интересно и потому еще, что он очень смешно об этом рассказывал.
Заговорившись, ребята забыли о новенькой и не заметили, как прошло время. А за окнами уже совсем рассвело, и вот в коридоре зазвенел звонок, зазвенел как-то особенно — громко и торжественно.
Ребята быстрее, чем обычно, расселись по партам.
В это время в класс вбежала запыхавшаяся длинноногая Вера Макарова.
— Ребята! — закричала она. — Вы знаете… Новость!..
— Что? Что такое? Какая? — закричали вокруг.
— Вы знаете… у нас… у нас… новенькая…
— Ха! — захохотали ребята. — Новость! Давно без тебя знаем…
— Новенькая учительница, — сказала Вера.
— Учительница?
— Ага. Вместо Элеоноры Матвеевны будет. Ой, вы бы видели! — Вера всплеснула своими длинными руками. — Хорошенькая… Молоденькая… Глаза голубые, а волосы…
Ей не пришлось дорисовывать портрет новой учительницы. Открылась дверь, и на пороге появилась она сама — действительно очень молодая, голубоглазая, с двумя золотистыми косами, заплетенными, как венок, вокруг головы.
Ребята поднялись ей навстречу, и в тишине какая-то девочка громко прошептала своей соседке:
— Ой, и правда, какая хорошенькая!..
Учительница чуть заметно улыбнулась, подошла к своему столику, положила портфель и сказала:
— Здравствуйте, ребята. Вот вы какие! А мне говорили, что вы маленькие. Садитесь, пожалуйста.
Ребята сели. Учительница прошлась по классу, остановилась, опять улыбнулась и сказала:
— Ну, давайте познакомимся. Меня зовут Елизавета Ивановна. А вас?
Ребята засмеялись. Учительница прошла к столу и раскрыла журнал.
— О, да вас тут много. Ну, давайте все-таки знакомиться. Антонова — кто это?
— Я! — сказала Вера Антонова, поднимаясь.
— Ну, расскажи мне немножко о себе, — сказала учительница, присаживаясь к столу. — Как тебя зовут? Кто твои папа и мама? Где ты живешь? Как ты учишься?
— Учусь — ничего, хорошо, — сказала Вера.
Ребята зафыркали.
— Ну, садись, — усмехнулась учительница. — Поживем — увидим. Следующий — Баринова!
— Я!
— А тебя как зовут?
Баринова сказала, что ее зовут Тамара, что живет она в соседнем доме, что мама у нее буфетчица, а папа умер, когда она еще была маленькая.
Пока она это рассказывала, Володька Бессонов нетерпеливо ерзал на своей парте. Он знал, что его фамилия — следующая, и не мог дождаться очереди.
Не успела учительница вызвать его, как он вскочил и затараторил:
— Меня зовут Володя. Мне одиннадцать лет. Мой папа — парикмахер. Я живу угол Обводного канала и Боровой. У меня есть собака Тузик…
— Тихо, тихо, — улыбнулась учительница. — Ладно, садись, хватит, о Тузике ты мне после расскажешь. А то я с твоими товарищами не успею познакомиться.
Так она постепенно, по алфавиту, опросила полкласса. Наконец подошла очередь новенькой.
— Морозова! — выкликнула учительница.
Со всех сторон закричали:
— Это новенькая! Елизавета Ивановна, она новенькая. Она сегодня первый раз.
Учительница внимательно посмотрела на маленькую, худенькую девочку, поднявшуюся из-за своей парты, и сказала:
— Ах, вот как?
— Елизавета Ивановна! — закричал Володька Бессонов, поднимая руку.
— Ну, что?
— Елизавета Ивановна, эта девочка новенькая. Ее зовут Морозова. Я ее сегодня первый увидел…
— Да, да, — сказала Елизавета Ивановна. — Мы уже слышали об этом. Ну, что ж, Морозова, — обратилась она к новенькой, — расскажи и ты нам о себе. Это будет интересно не только мне, но и твоим новым товарищам.
Новенькая тяжело вздохнула и посмотрела куда-то в сторону, в угол.
— Меня зовут Валя, — сказала она. — Мне будет скоро двенадцать лет. Я родилась у Киеви и все время там жила — с папой и мамой. А потом…
Тут она запнулась и совсем тихо, одними губами сказала:
— Потом мой папа…
Что-то мешало ей говорить.
Учительница вышла из-за стола.
— Хорошо, Морозова, — сказала она, — хватит. Ты после расскажешь.
Но было уже поздно. У новенькой задрожали губы, она повалилась на парту и громко, на весь класс заплакала.
Ребята повскакали со своих мест.
— Что с тобой? Морозова! — крикнула учительница.
Новенькая не отвечала. Она уткнулась лицом в сложенные на парте руки и делала все, чтобы сдержать слезы, но, как ни старалась, как ни сжимала зубы, — слезы все текли и текли, и плакала она все громче и все безутешнее.
Учительница подошла к ней и положила руку ей на плечо.
— Ну, Морозова, — сказала она, — милая, ну, успокойся…
— Елизавета Ивановна, может быть, она больная? — сказала ей Лиза Кумачева.
— Нет, — ответила учительница.
Лиза взглянула на нее и увидела, что учительница стоит, закусив губу, и что глаза у нее стали мутные, и что она тяжело и порывисто дышит.
— Морозова… не надо, — сказала она и погладила новенькую по голове.
В это время за стеной зазвенел звонок, и учительница, ни слова не сказав, повернулась, подошла к своему столу, взяла портфель и быстро вышла из класса.
Новенькую со всех сторон окружили. Стали ее теребить, уговаривать, успокаивать. Кто-то побежал в коридор за водой, и когда она, стуча зубами, сделала несколько глотков из жестяной кружки, она успокоилась немножко и даже сказала «спасибо» тому, кто ей принес воду.
— Морозова, ты что? Что с тобой? — спрашивали вокруг.
Новенькая не отвечала, всхлипывала, глотала слезы.
— Да что с тобой? — не отставали ребята, наседая со всех сторон на парту.
— Ребята, уйдите! — отталкивала их Лиза Кумачева. — Ну, как вам не стыдно! Мало ли… может быть, у нее кто-нибудь умер.
Эти слова подействовали и на ребят и на новенькую. Новенькая опять повалилась на парту и еще громче заплакала, а ребята смутились, замолчали и стали понемногу расходиться.
Когда, после звонка, Елизавета Ивановна снова появилась в классе, Морозова уже не всхлипывала, только изредка шмыгала носом и сжимала в руке маленький, промокший до последней ниточки платок.
Учительница ей ничего больше не сказала и сразу же приступила к уроку.
Вместе со всем классом новенькая писала диктовку. Собирая тетради, Елизавета Ивановна остановилась около ее парты и негромко спросила.
— Ну, как, Морозова?
— Хорошо, — пробурчала новенькая.
— Может быть, тебе лучше все-таки пойти домой?
— Нет, — сказала Морозова и отвернулась.
Больше за весь день Елизавета Ивановна к ней не обращалась и не вызывала ее ни на русском ни на арифметике. Товарищи тоже оставили ее в покое.
В конце концов, что тут особенно интересного в том, что маленькая девочка заплакала на уроке? О ней просто забыли. Только Лиза Кумачева почти каждую минуту спрашивала у нее, как она себя чувствует, и новенькая или говорила ей «спасибо», или ничего не отвечала, а только кивала головой.
Кое-как досидела она до конца уроков, и не успел отзвенеть последний звонок, как она торопливо собрала свои книжки и тетради, затянула их ремешком и побежала к выходу.
У вешалки, постукивая номерком о прилавок, уже стоял Володька Бессонов.
— Вы знаете, нянечка, — говорил он, — у нас в классе новенькая. Ее зовут Морозова. Она с Украины приехала. С Восточной… Вот она! — сказал он, увидев Морозову. Потом посмотрел на нее, сморщил нос и сказал: — Что, плакса-вакса, не удалось обскакать? Я все-таки первый ухожу. Да-с.
Новенькая взглянула на него с удивлением, а он прищелкнул языком, повернулся на каблуках и стал натягивать пальто, — как-то по-особенному, всовывая руки в оба рукава сразу.
Из-за Володьки новенькой не удалось уйти незамеченной из школы. Пока она одевалась, в раздевалке набился народ.
Застегивая на ходу коротенькое пальтецо с белым заячьим воротником, она вышла на улицу. Почти следом за ней выбежала на улицу Лиза Кумачева.
— Морозова, тебе в какую сторону? — сказала она.
— Мне — сюда, — показала налево новенькая.
— Ой, по пути, значит, — сказала Лиза, хотя идти ей нужно было совсем в другую сторону. Просто ей очень хотелось поговорить с новенькой.
— Ты на какой улице живешь? — спросила она, когда они дошли до угла.
— А что? — спросила новенькая.
— Ничего… Просто так.
— На Кузнечном, — сказала новенькая и зашагала быстрее. Лиза еле-еле поспевала за ней. Ей очень хотелось как следует расспросить новенькую, но она не знала, с чего начать.
— Правда, Елизавета Ивановна хорошенькая? — сказала она.
Новенькая помолчала и спросила:
— Это какая Елизавета Ивановна? Учительница?
— Да. Правда, она чудная?
— Ничего, — пожала плечами новенькая.
Здесь, на улице, в своем легком пальтишке она казалась еще меньше, чем в классе. Нос и все лицо у нее на морозе страшно покраснели. Лиза решила, что лучше всего заговорить для начала о погоде.
— У вас что — на Украине — теплее или холоднее? — сказала она.
— Трохи теплей, — сказала новенькая. Вдруг она убавила шаг, посмотрела на свою спутницу и сказала:
— Скажи, это очень глупо, що я так ревела сегодня у классе?
— Ну, почему? — пожала плечами Лиза. — У нас тоже девочки плачут… А ты почему плакала, что у тебя случилось, а?
Она думала почему-то, что новенькая ей не ответит. Но та посмотрела на Лизу и сказала:
— У меня папа пропал.
Лиза даже остановилась от удивления.
— Как пропал? — сказала она.
— Он — летчик, — сказала новенькая.
— А где он — в Киеве пропал?
— Нет, здесь — на фронте…
Лиза открыла рот.
— Он что у тебя — на войне?
— Ну, да, конечно, — сказала новенькая, и Лиза, посмотрев на нее, увидела, что у нее в глазах опять блестят слезы.
— А как же он пропал?
— Ну, как вообще на войне пропадают. Улетел, и никто не знает, що с ним. Одиннадцать дней от него писем не было.
— Может быть, некогда ему? — неуверенно сказала Лиза.
— Ему и всегда некогда, — сказала новенькая. — А он все-таки в декабре оттуда восемь листиков прислал.
— Да, — сказала Лиза и покачала головой. — А вы когда, давно из Киева приехали?
— Мы сразу, вместе с ним приихалы, як только война началась — на третий день.
— И мама твоя приехала?
— Конечно.
— Ох, наверно, она тоже волнуется! — сказала Лиза. — Плачет, наверно, да?
— Нет, — сказала новенькая. — Моя мама умиет не плакать…
Она посмотрела на Лизу, сквозь слезы усмехнулась и сказала:
— А я вот не умию…
Лиза хотела сказать ей что-нибудь хорошее, теплое, утешительное, но в эту минуту новенькая остановилась, протянула ей руку и сказала:
— Ну, до свиданья, теперь я одна пойду.
— Почему? — удивилась Лиза. — Это ж еще не Кузнечный. Я тебя провожу.
— Нет, нет, — сказала новенькая и, торопливо пожав Лизину руку, побежала дальше одна.
Лиза видела, как она свернула за угол — в Кузнечный переулок. Из любопытства Лиза тоже дошла до угла, но когда она заглянула в переулок новенькой там уже не было.
* * *
На следующее утро Валя Морозова пришла в школу очень поздно, перед самым звонком. Когда она появилась в классе, там сразу стало очень тихо, хотя за минуту до этого стоял такой гвалт, что в окнах звенели стекла, а мертвые бабочки в классной коллекции шевелили крылышками, как живые. По тому, как участливо и жалостливо все на нее посмотрели, новенькая поняла, что Лиза Кумачева уже успела рассказать о вчерашнем их разговоре на улице. Она покраснела, смутилась, пробормотала «здравствуйте», и весь класс, как один человек, ответил ей:
— Здравствуй, Морозова!
Ребятам, конечно, было очень интересно узнать, что у нее слышно нового и нет ли известий от отца, но никто не спросил у нее об этом, и только Лиза Кумачева, когда новенькая уселась рядом с ней за парту, негромко сказала:
— Что, нет?
Морозова покачала головой и глубоко вздохнула.
За ночь она еще больше осунулась и похудела, но, как и вчера, жиденькие белокурые косички ее были тщательно заплетены, и в каждой из них болтался зеленый шелковый бантик.
Когда зазвенел звонок, к парте, где сидели Морозова и Кумачева, подошел Володька Бессонов.
— Здравствуй, Морозова. С добрым утром, — сказал он. — Сегодня погода хорошая. Двадцать два градуса только. А вчера двадцать девять было.
— Да, — сказала Морозова.
Володька постоял, помолчал, почесал затылок и сказал:
— А что, интересно, Киев большой город?
— Большой.
— Больше Ленинграда?
— Меньше.
— Интересно, — сказал Володька, помотав головой. Потом он еще помолчал и сказал:
— А как, интересно, будет по-украински собака? А?
— А что? — сказала Морозова. — Так и будет — собака.
— Гм, — сказал Володька. Потом он вдруг тяжело вздохнул, покраснел, посопел носом и сказал:
— Ты… это… как его… не сердись, что я тебя вчера плаксой-ваксой назвал.
Новенькая улыбнулась и ничего не ответила. А Володька еще раз шмыгнул носом и отправился к своей парте. Через минуту Морозова услышала его звонкий, захлебывающийся голос:
— Ребята, вы знаете, как по-украински будет собака? Не знаете? А я знаю…
— Ну, как же, интересно, будет по-украински собака?
Володька оглянулся. В дверях, с портфелем под мышкой, стояла Елизавета Ивановна, новая учительница.
— Собака — собака и будет, Елизавета Ивановна, — сказал Володька, поднимаясь вместе с другими навстречу учительнице.
— Ах, вот как? — улыбнулась учительница. — А я думала, как-нибудь поинтереснее. Здравствуйте, товарищи. Садитесь, пожалуйста.
Она положила на столик портфель, поправила на затылке волосы и опять улыбнулась:
— Ну, как поживают наши уроки?
— Ничего, Елизавета Ивановна, спасибо. Живы, здоровы! — закричал Володька.
— А это мы сейчас увидим, — сказала учительница, раскрывая классный журнал.
Взгляд ее пробежал по списку учеников. Все, кто не очень уверенно чувствовали себя в этот день в арифметике, — съежились и насторожились, только Володька Бессонов нетерпеливо подпрыгивал на своей задней парте, мечтая, как видно, что его и тут вызовут первым.
— Морозова — к доске! — сказала учительница.
Почему-то по классу пробежал ропот. Всем показалось, наверно, что это не очень-то хорошо, что вызывают Морозову. Можно было бы сегодня ее и не беспокоить.
— Отвечать можешь? — спросила у новенькой учительница. — Уроки выучила?
— Выучила. Могу, — чуть слышно ответила Морозова и пошла к доске.
Отвечала она урок очень плохо, путалась и сбивалась, и Елизавета Ивановна несколько раз обращалась за помощью к другим. И все-таки не отпускала ее и держала у доски, хотя все видели, что новенькая еле стоит на ногах, и что мел у нее в руке дрожит, и цифры на доске прыгают и не хотят стоять прямо.
Лиза Кумачева готова была расплакаться. Она не могла спокойно смотреть, как бедная Валя Морозова в десятый раз выписывает на доске неправильное решение, стирает его и пишет снова, и опять стирает, и опять пишет. А Елизавета Ивановна смотрит на нее, качает головой и говорит:
— Нет, неправильно. Опять неправильно.
«Ах, — думала Лиза. — Если бы Елизавета Ивановна знала! Если б она знала, как тяжело сейчас Вале! Она бы отпустила ее. Она бы не стала ее мучить».
Ей хотелось вскочить и закричать: «Елизавета Ивановна! Хватит! Довольно!..»
Наконец, новенькой удалось написать правильное решение. Учительница отпустила ее и поставила в журнале отметку.
— Теперь попросим к доске Бессонова, — сказала она.
— Так и знал! — закричал Володька, вылезая из-за своей парты.
— А уроки ты знаешь? — спросила учительница. — Задачи решил? Не трудно было?
— Хе! Легче пуха и пера, — сказал Володька, подходя к доске. Я, вы знаете, за десять минут все восемь штук решил.
Елизавета Ивановна дала ему задачу на что же правило. Володька взял мел и задумался. Так он думал минут пять, по меньшей мере. Он вертел в пальцах огрызок мела, писал в уголке доски какие-то малюсенькие цифры, стирал их, чесал нос, чесал затылок.
— Ну, как же? — не выдержала наконец Елизавета Ивановна.
— Минуточку, — сказал Володька. — Минуточку… я сейчас… Как же это?
— Садись, Бессонов, — сказала учительница.
Володька положил мел и, ни слова не говоря, вернулся на свое место.
— Видали! — обратился он к ребятам. — Каких-нибудь пять минуток у доски постоял и — целую двойку заработал.
— Да, да, — сказала Елизавета Ивановна, оторвавшись от журнала. — Одним словом — легче пуха и пера.
Ребята долго смеялись над Володькой. Смеялась и Елизавета Ивановна, и сам Володька. И даже новенькая улыбалась, но видно было, что ей не смешно, что улыбается она только из вежливости, за компанию, а на самом деле ей не смеяться, а плакать хочется… И, взглянув на нее, Лиза Кумачева поняла это и первая перестала смеяться.
В перемену несколько девочек собрались в коридоре у кипяточного бака.
— Вы знаете, девочки, — сказала Лиза Кумачева, — я хочу поговорить с Елизаветой Ивановной. Надо ей рассказать про новенькую… Чтобы она с ней не так строго. Ведь она не знает, что у Морозовой такое несчастье.
— Пойдемте, поговорим с ней, — предложила Шмулинская.
И девочки гурьбой побежали в учительскую.
В учительской рыжая Марья Васильевна, из четвертого «А», разговаривала по телефону.
— Да, да… хорошо… да! — кричала она в телефонную трубку и, кивая, как утка, головой, без конца повторяла: — Да… да… да… да… да… да…
— Вам что, ребята? — сказала она, оторвавшись на минуту от трубки.
— Елизаветы Ивановны тут нет? — спросили девочки.
Учительница показала головой на соседнюю комнату.
— Елизавета Ивановна! — крикнула она. — Вас ребята спрашивают.
Елизавета Ивановна стояла у окна. Когда Кумачева и другие вошли в комнату, она быстро повернулась, подошла к столу и склонилась над грудой тетрадок.
— Да? — сказала она, и девочки увидели, что она торопливо вытирает платком глаза.
От неожиданности они застряли в дверях.
— Что вы хотели? — сказала она, внимательно перелистывая тетрадку и что-то разглядывая там.
— Елизавета Ивановна, — сказала, выступая вперед, Лиза. — Мы хотели… это… мы хотели поговорить относительно Вали Морозовой.
— Ну? Что? — сказала учительница и, оторвавшись от тетрадки внимательно посмотрела на девочек.
— Вы знаете, — сказала Лиза, — ведь у нее отец…
— Да, да, девочки, — перебила ее Елизавета Ивановна. — Я знаю об этом. Морозова очень страдает. И это хорошо, что вы о ней заботитесь. Не надо только показывать, что вы ее жалеете и что она несчастнее других. Она очень слабая, болезненная… в августе у нее был дифтерит. Надо, чтобы она поменьше думала о своем горе. Сейчас о своем много думать нельзя — не время. Ведь у нас, милые мои, самое ценное, самое дорогое в опасности — наша Родина. А что касается Вали — будем надеяться, что отец ее жив.
Сказав это, она опять склонилась над тетрадкой.
— Елизавета Ивановна, — сказала, засопев, Шмулинская, — а вы почему плачете?
— Да, да, — сказали, окружив учительницу, остальные девочки. — Что с вами, Елизавета Ивановна?
— Я? — повернулась к ним учительница. — Да что с вами, голубушки! Я не плачу. Это вам показалось. Это, наверно, с мороза у меня глаза заслезились. И потом — здесь так накурено…
Она помахала рукой около своего лица.
Шмулинская понюхала воздух. В учительской табаком не пахло. Пахло сургучом, чернилами, чем угодно — только не табаком.
В коридоре затрещал звонок.
— Ну, шагом марш, — весело сказала Елизавета Ивановна и распахнула дверь.
В коридоре девочки остановились и переглянулись.
— Плакала, — сказала Макарова.
— Ну, факт, что плакала, — сказала Шмулинская. — И не накурено ни чуточки. Я даже воздух понюхала…
— Вы знаете, девочки, — сказала, подумав, Лиза. — Я думаю, что у нее тоже какое-нибудь несчастье…
После этого Елизавету Ивановну никогда больше не видели с заплаканными глазами. И в классе, на уроках, она всегда была веселая, много шутила, смеялась, а в большую перемену даже играла с ребятами во дворе в снежки.
К Морозовой она относилась так же, как и к остальным ребятам, задавала ей на дом не меньше, чем другим, и отметки ставила без всякой поблажки.
Училась Морозова неровно, то отвечала на «отлично», то вдруг подряд получала несколько «плохо». И все понимали, что это не потому, что она лентяйка или неспособная, а потому, что, наверно, дома она вчера весь вечер проплакала и мама ее, наверно, плакала, и — где ж тут заниматься?
А в классе Морозову тоже никогда больше не видели плачущей. Может быть, это потому, что никто никогда не заговаривал с ней об ее отце, даже самые любопытные девочки, даже Лиза Кумачева. Да и что было спрашивать? Если бы отец ее вдруг нашелся, она бы и сама, наверно, сказала, да и говорить не надо — по глазам было бы видно.
Только один раз Морозова не выдержала. Это было в начале февраля. В школе собирали подарки для посылки бойцам на фронт. После уроков, уже в сумерках, собрались ребята в классе, шили мешочки, набивали их конфетами, яблоками и папиросами. Валя Морозова тоже работала вместе со всеми. И вот тут, когда она зашивала один из мешочков, она заплакала. И несколько слезинок капнуло на этот парусиновый мешок. И все это увидели и поняли, что, наверно, в эту минуту Валя подумала об отце. Но никто ей ничего не сказал. И скоро она перестала плакать.
А на другой день Морозова не пришла в школу. Всегда она приходила одной из первых, а тут уже прозвенел звонок, и все расселись по своим местам, и уже Елизавета Ивановна показалась в дверях, а ее все не было.
Учительница, как всегда весело и приветливо, поздоровалась с классом, села за столик и принялась перелистывать журнал.
— Елизавета Ивановна! — крикнула ей с места Лиза Кумачева. — Вы знаете, почему-то Морозовой нет…
Учительница оторвалась от журнала.
— Морозова сегодня не придет, — сказала она.
— Как не придет? Почему не придет? — послышалось со всех сторон.
— Морозова заболела, — сказала Елизавета Ивановна.
— А что? Откуда вы знаете? Что — разве мама ее приходила?
— Да, — сказала Елизавета Ивановна, — приходила мама.
— Елизавета Ивановна! — закричал Володька Бессонов. — Может быть, у нее отец нашелся?!.
— Нет, — покачала головой Елизавета Ивановна. И сразу же заглянула в журнал, захлопнула его и сказала:
— Баринову Тамару — прошу к доске.
* * *
На другой день Морозова тоже не пришла. Лиза Кумачева и еще несколько девочек решили после уроков пойти ее навестить. В большую перемену они подошли в коридоре к учительнице и сказали, что хотели бы навестить больную Морозову, нельзя ли узнать ее адрес.
Елизавета Ивановна подумала минутку и сказала:
— Нет, девочки… У Морозовой, кажется, ангина, а это опасно. Не стоит к ней ходить.
И, ничего больше не сказав, пошла в учительскую.
А следующий день был выходной.
Накануне Лиза Кумачева очень долго провозилась с уроками, легла позже всех и собиралась как следует поспать — часов до десяти или до одиннадцати. Но было еще совсем темно, когда ее разбудил оглушительный звонок на кухне. В полусне она слышала, как мать открывает дверь, потом услышала какой-то знакомый голос и не сразу могла сообразить, чей это голос.
Захлебываясь и проглатывая слова, кто-то громко говорил на кухне:
— У нас в классе есть девочка. Она с Украины приехала. Ее зовут Морозова…
«Что такое? — подумала Лиза. — Что случилось?»
Второпях она натянула задом наперед платье, сунула ноги в валенки и выбежала на кухню.
Размахивая руками, Володька Бессонов что-то объяснял Лизиной маме.
— Бессонов! — окликнула его Лиза.
Володька даже не сказал «с добрым утром».
— Кумачева, — кинулся он к Лизе, — ты не знаешь, как у Морозовой отца зовут?
— Нет, — сказала Лиза. — А что такое?
— Он не капитан?
— Не знаю. А что? В чем дело?
Володька прищелкнул языком, покачал головой.
— Плохо, если не капитан, — сказал он.
— Да что такое? — чуть не закричала Лиза.
— Понимаешь, — сказал Володька. — У меня есть собака. Ее зовут Тузик. Я ее каждый выходной вожу гулять. Утром.
— Какой Тузик? — ничего не понимая, спросила Лиза.
— Тузик. Собака. Ну, не в этом дело. Одним словом, я ее повел гулять. А на улице радио. И передают Указ. Понимаешь? О награждениях бойцов и командиров. Я слушаю и вдруг слышу: за проявленную доблесть и так далее присвоить звание Героя Советского Союза командиру эскадрильи капитану Морозову Ивану… и какое-то отчество, я только не разобрал, трудное какое-то.
— Командиру эскадрильи? Правда? — сказала Лиза.
— Вот в том-то и дело… Я думаю, может, это он? Ведь он летчик?
— Ну да. Ну конечно, — сказала Лиза. — Ой, как бы узнать, как его зовут?
— Я же тебе говорю — Иван зовут… забыл только отчество… Фиктилис-тович, кажется.
— Филимонович, может быть? — сказала Лизина мама.
— Нет, — сказал Володька, — Фиктилистович.
— А может, это не он? — сказала Лиза.
— А вы к этой — к Морозовой сбегайте, — посоветовала мать. — Чего ж лучше-то. Вот и узнаете.
— Я же ее адреса не знаю, — чуть не плача, сказала Лиза.
— Как? — испугался Володька. — Не ври! Не знаешь, где она живет?
— Нет, — сказала Лиза. — Знаю только, что в Кузнечном переулке, в первом или во втором доме от угла.
— Эх, — сказал Володька. — А я-то, дурак, бежал, даже Тузика на улице бросил. Я думал, ты знаешь. Ведь вы же подруги…
— Знаю только, что на Кузнечном, — растерянно повторила Лиза.
— На Кузнечном? — подумав, переспросил Володька. — Говоришь, второй дом от угла?
— Да. Второй или первый. Или, может быть, третий…
— Может быть, двадцать третий? — рассердился Володька. — А ну, одевайся. Побежали. Может, найдем…
Через десять минут они уже были в Кузнечном переулке.
— Под воротами есть такие доски, — говорил Володька. — Деревянные. Там написано, где какой жилец живет. Будем искать Морозовых.
Они обошли пять или шесть домов, проглядели все доски, и нигде Морозовых не было.
Володька уж стал ругаться и говорить, что, наверно, Лиза путает что-нибудь и что напрасно он оставил на улице Тузика…
Он уже хотел на все плюнуть и бежать разыскивать своего Тузика, как вдруг Лиза схватила его за руку.
— Бессонов, смотри, — сказала она, — Елизавета Ивановна идет.
Володька посмотрел и увидел, что по улице действительно идет Елизавета Ивановна, их классная воспитательница. Они побежали ей навстречу и так разлетелись, что чуть не сбили ее с ног.
— Елизавета Ивановна, здравствуйте, с добрым утром! — заговорили они в один голос.
Учительница испуганно попятилась.
— Здравствуйте, ребята, — сказала она.
— Елизавета Ивановна, — не дав ей опомниться, заговорил Володька, — вы не знаете случайно, где Валя Морозова живет?
— А что такое? — спросила учительница.
— Ой, вы бы знали, — сказала Лиза. — Нам — прямо я сказать не могу — до чего ее нужно видеть!..
— Елизавета Ивановна! Вы же знаете, наверно? — сказал Володька.
— Да, — сказала, подумав, учительница. — Знаю. Морозова здесь, вот в этом кирпичном доме живет.
— И квартиру знаете?
— И квартиру знаю, — сказала учительница. — А в чем дело?
— Вы понимаете, Елизавета Ивановна, — сказала Лиза. — У нее, кажется, отец нашелся.
— У кого? — сказала учительница.
— У Вали!
И тут ребята увидели, что Елизавета Ивановна побледнела, как снег, и губы у нее задергались — не то она хочет смеяться, не то плакать.
— Что? — сказала она. — Что вы говорите?
Ребята, путаясь и перебивая друг друга, рассказали ей о том, что передавали сегодня утром по радио.
Когда дело дошло до отчества капитана Морозова, Володька опять застрял.
— Филикт… — начал он. — Или Феликст…
— Феоктистович, — сказала учительница.
— Правильно! Во-во! — закричал Володька. — Феоктелистович! Елизавета Ивановна, а откуда вы знаете?..
Учительница закрыла рукой глаза.
— Идемте, — сказала она. — Идемте скорей к Морозовой.
И она побежала так быстро, что ребята едва успевали за ней, а прохожие останавливались и смотрели ей вслед.
— Сюда, — сказала она ребятам и свернула в ворота большого кирпичного дома, второго от угла.
— Ну, что? Я тебе говорила, — сказала Володьке Лиза.
— Елизавета Ивановна, — сказал Володька. — Мы уже тут были. Тут никаких Морозовых нет.
— Идемте, идемте, ребята, — сказала Елизавета Ивановна, не останавливаясь.
— Елизавета Ивановна, ведь правда? — сказала Лиза, когда они уже поднимались по черной лестнице. — Ведь, может, это и в самом деле Валин отец?
— Да, милая, — сказала Елизавета Ивановна. — Это он. Иван Феоктистович Морозов, капитан, командир эскадрильи. Это Валин отец.
На площадке четвертого этажа учительница остановилась, вынула из сумочки ключ и открыла этим ключом французский замок. Ребята не успели удивиться, как она распахнула дверь и сказала:
— Пожалуйста, милости просим.
В коридоре было темно.
— Осторожно, — сказала Елизавета Ивановна. — Здесь сундук.
И хотя она это сказала, Володька все-таки успел наткнуться на этот сундук. От неожиданности он вскрикнул.
— Мама, это ты? — послышался за дверью тоненький голосок, и ребята узнали голос Вали Морозовой.
— Я, — сказала Елизавета Ивановна, распахнув дверь.
— Что ты так скоро? Уже достала?
— Нет, доченька, — сказала Елизавета Ивановна. — Я не достала газету. Но зато посмотри, какую я тебе привела замечательную живую газету…
Валя Морозова лежала в постели. Приподнявшись над подушкой, она испуганно и смущенно смотрела на Володьку и Лизу, которые, не менее смущенные и не менее испуганные, застряли в дверях.
Минуту Валя смотрела на них, потом вдруг вскрикнула и юркнула головой под одеяло.
Елизавета Ивановна подбежала к ее кровати и стала стягивать с нее одеяло.
— Вылезай, вылезай! — сказала она. — Хватит нам прятаться. Горевали мы в одиночку, а радоваться будем вместе…
И она так громко засмеялась, что Валя не выдержала и высунулась из-под одеяла.
— Что? — сказала она.
Елизавета Ивановна опустилась на колени около ее кровати и обняла девочку.
— Валечка! Папа жив, — сказала она.
Несколько секунд Валя внимательно смотрела на нее, потом уронила голову в подушку и тихо заплакала.
А когда она оторвалась от подушки, ребята увидели, что она уже не плачет, а смеется. И тут, когда она засмеялась, и Володька, и Лиза в первый раз заметили, что она очень хорошенькая, и что у нее белые зубы и очень красивые золотистые волосы, а самое главное, что она, как две капли воды, похожа на Елизавету Ивановну.
Ребята удивились, хотя ничего удивительного, конечно, в этом не было.