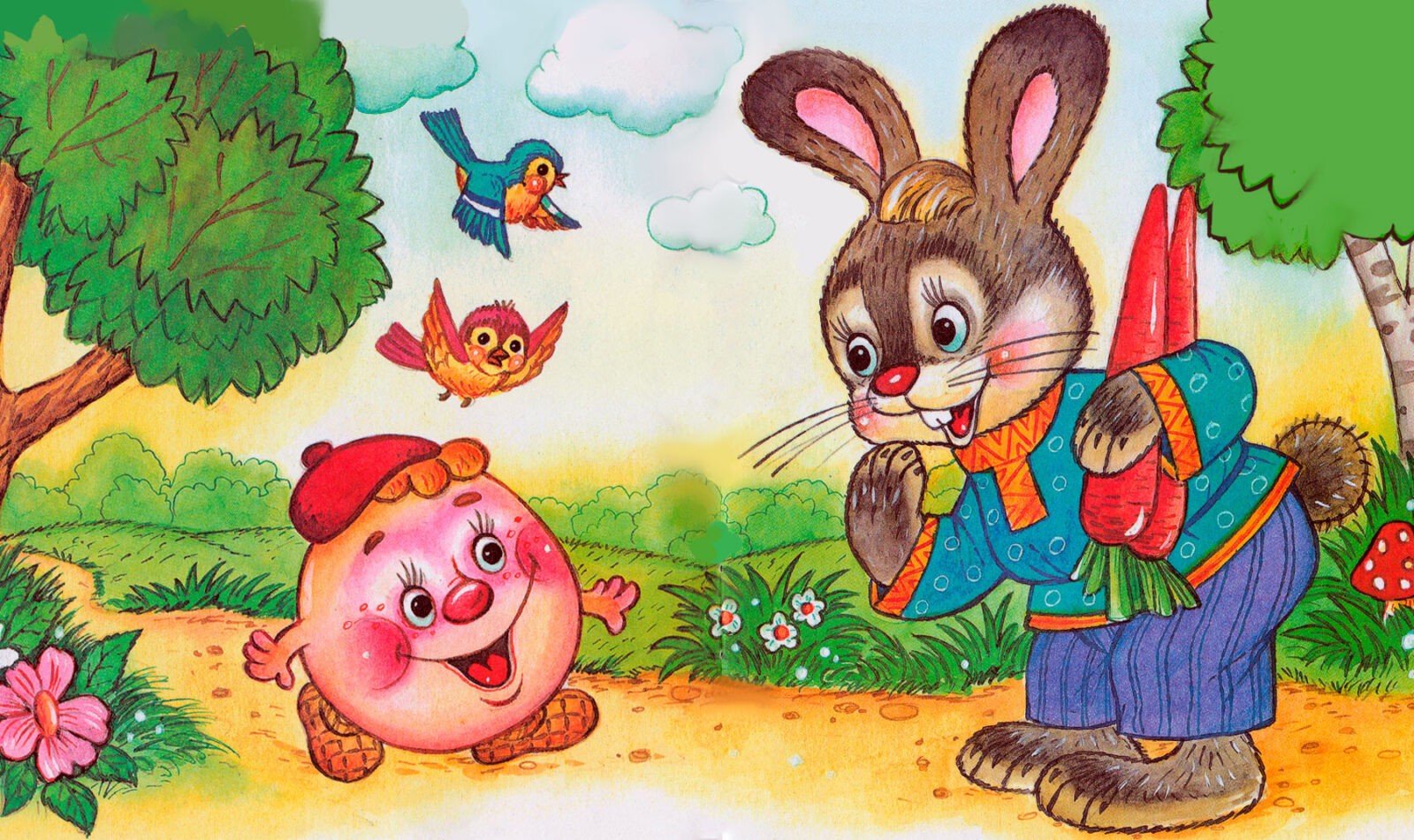Против наших каслинских мастеров по фигурному литью никто выстоять не мог. Сколько заводов кругом, а ни один вровень не поставишь.
Другим заводчикам это не вовсе по нраву приходилось. Многие охотились своим литьем каслинцев обогнать, да не вышло.
Демидовы тагильские сильно косились. Ну как — первый, можно сказать, по здешним местам завод считался, а тут нако — по литью оплошка. Связываться все таки не стали, отговорку придумали:
— Мы бы легонько каслинцев перешагнули, да заниматься не стоит: выгоды мало.
С Шуваловыми лысьвенскими смешнее вышло. Те, понимаешь, врезались в это дело. У себя, на Кусье-Александровском заводе, сказывают, придумали тоже фигурным литьем заняться. Мастеров с разных мест понавезли, художников наняли. Не один год этак-то пыжились и денег, говорят, не жалели, а только видят — в ряд с каслинским это литье не поставишь. Махнули рукой да и говорят, как Демидовы:
— Пускай они своими игрушками тешатся, у нас дело посурьезнее найдется.
Наши мастера меж собой пересмеиваются:
— То-то! Займитесь-ко чем посподручнее, а с нами не спорьте. Наше литье, поди ко, по всему свету на отличку идет. Однем словом, каслинское.
В чем тут главная точка была, сказать не умею. Кто говорил — чугун здешний особенный, только, на мой глаз, чугун — чугуном, а руки — руками. Про это ни в каком деле забывать не след.
В Каслях, видишь, это фигурное литье с давних годов укоренилось. Еще при бытности Зотовых, когда они тут над народом изгальничали, художники в Каслях живали. Народ, значит, и приобык.
Тоже ведь фигурка, сколь хорошо ее ни слепит художник, сама в чугун не заскочит. Умелыми да ловкими руками ее переводить доводится.
Формовщик хоть и по готовому ведет, а его рука много значит. Чуть оплошал — уродец родится.
Дальше чеканка пойдет. Тоже не всякому глазу да руке впору. При отливке, известно, всегда какой ни на есть изъян случится. Ну, наплывчик выбежит, шадринки высыплет, вмятины тоже бывают, а чаще всего путцы под рукой путаются. Это пленочки так по-нашему зовутся. Чеканщику и приходится все эти изъяны подправить: наплывчики загладить, шадринки сбить, путцы срубить. Со стороны глядя, и то видишь — вовсе тонкое это дело, не всякой руке доступно.
Бронзировка да покраска проще кажутся, а изведай — узнаешь, что и тут всяких хитростей-тонкостей многонько.
А ведь все это к одному шло. Оно и выходит, что около каслинского фигурного литья, кроме художников, немало народу ходило. И набирался этот народ из того десятка, какой не от всякой сотни поставишь. Многие, конечно, по тем временам вовсе неграмотные были, а дарованье к этому делу имели.
Фигурки, по коим литье велось, не все заводские художники готовили. Больше того их со стороны привозили. Которое, как говорится, из столицы, которое — из-за границы, а то и просто с толчка. Ну, мало ли, — приглянется заводским барам какая вещичка, они и посылают ее в Касли с наказом:
— Отлейте по этому образцу, к такому-то сроку. Заводские мастера отольют, а сами про всякую отливку посудачат.
— Это, не иначе, француз придумал. У них, знаешь, всегда так: либо веселенький узорчик пустят, либо выдумку почудней. Вроде вон парня с крылышками на пятках. Кузьмич из красильной еще его торгованом Меркушкой зовет.
— Немецкую работу, друг, тоже без ошибки узнать можно. Как лошадка поглаже да посытее, либо бык пудов этак на сорок, а то барыня погрузнее, в полном снаряде да еще с собакой, так и знай — без немецкой руки тут не обошлось. Потому — немец первым делом о сытости думает.
Ну вот. В числе прочих литейщиков был в те годы Торокин Василий Федорыч. В пожилых считался. Дядей Васей в литейном его звали.
Этот дядя Вася с малых лет на формовке работал и, видно, талан к этому делу имел. Даром что неграмотный, а лучше всех доводил. Самые тонкие работы ему доверяли.
За свою-то жизнь дядя Вася не одну тысячу отливок сделал, а сам дивится:
— Придумывают тоже! Все какие-то Еркулесы да Лукавоны! А нет того, чтобы понятное показать.
С этой думкой стал захаживать по вечерам в мастерскую, где главный заводской художник учил молодых ребят рисунку и лепке тоже.
Формовочное дело, известно, с лепкой-то по соседству живет: тоже приметливого глаза да ловких пальцев требует.
Поглядел дядя Вася на занятия да и думает про себя: «А ну-ко, попробую сам».
Только человек возрастной, свои ребята уж большенькие стают — ему и стыдно в таких годах ученьем заниматься. Так он что придумал? Вкрадче от своих-то семейных этим делом занялся. Как уснут все, он и садится за работу. Одна жена знала. От нее, понятно, не ухоронишься. Углядела, что мужик засиживаться стал, спрашивает:
— Ты что, отец, полуночничаешь? Он сперва отговаривался:
— Работа, дескать, больно тонкая пришлась, а пальцы одубели, вот и разминаю их.
Жена все-таки доспрашивает, да его и самого тянет сказать про свою затею.
Не зря, поди-ко, сказано: сперва подумай с подушкой, потом с женой. Ну, он и рассказал:
— Так и так… Придумал свой образец для отливки сготовить.
Жена посомневалась:
— Барское, поди-ко, это дело. Они к тому ученые, а ты что?
— Вот то-то, — отвечает, — и горе, что бары придумывают непонятное, а мне охота простое показать. Самое, значит, житейское. Скажем, бабку Анисью вылепить, как она прядет. Видела?
— Как, — отвечает, — не видела, коли чуть не каждый день к ним забегаю.
А по соседству с ними Бескресновы жили. У них в семье бабушка была, вовсе преклонных лет. Внучата у ней выросли, работы по дому сама хозяйка справляла, и у этой бабки досуг был. Только она — рабочая косточка — разве может без дела? Она и сидела день-деньской за пряжей, и все, понимаешь, на одном месте, у кадушки с водой. Дядя Вася эту бабку и заприметил. Нет-нет, и зайдет к соседям будто за делом, а сам на бабку смотрит. Жене, видно поглянулась мужнина затея.
— Что ж, — говорит, — старушка стоющая. Век прожила, худого о ней никто не скажет. Работящая, характером уветливая, на разговор нескупая. Только примут ли на заводе?
— Это, — отвечает, — полбеды, потому — глина некупленная и руки свои.
Вот и стал дядя Вася лепить бабку Анисью со всем, сказать по-нонешнему, рабочим местом. Тут тебе и кадушка, и ковшичек сбоку привешен, и бабка сидит, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбе -вот-вот ласковое слово скажет.
Лепил, конечно, по памяти. Старуха об этом и не знала, а Васина жена сильно любопытствовала. Каждую ночь подойдет и свою заметочку скажет:
— Потуже ровно надо ее подвязать. Не любит бабка распустехой ходить, да и не по-старушечьи этак-то платок носить.
— Ковшик у них будет поменьше. Нарочно давеча поглядела.
Ну, и прочее такое. Дядя Вася о котором поспорит, которое на приметку берет.
Ну, вылепил фигурку. Тут на него раздумье нашло — показывать ли? Еще на смех подымут!
Все-таки решился, пошел сразу к управляющему. На счастье дяди Васи, управляющий тогда из добрых пришелся, неплохую память о себе в заводе оставил. Поглядел он торокинскую работу, понял, видно, да и говорит:
— Подожди маленько — придется мне посоветоваться. Ну, прошло сколько-то времени, пришел дядя Вася домой, подает жене деньги.
— Гляди-ко, мать, деньги за модельку выдали! Да еще бумажку написали, чтоб вперед выдумывал, только никому, кроме своего завода, не продавал.
Так и пошла торокинская бабка по свету гулять. Сам же дядя Вася ее формовал и отливал. И, понимаешь, оказалась ходким товаром. Против других-то заводских поделок ее вовсе бойко разбирать стали.
Дядя Вася перестал в работе таиться. Придет из литейной и при всех с глиной вожгается. Придумал на этот раз углевоза слепить, с коробом, с лошадью, всё как на деле бывает.
На дядю Васю глядя, другие заводские мастера осмелели — тоже принялись лепить да резать, кому что любо. Подставку, скажем, для карандашей вроде рабочего бахила, пепельницу на манер капустного листка. Кто опять придумал вырезать девушку с корзинкой груздей, кто свою собачонку Шарика лепит-старается. Однем словом, пошло-поехало, живым потянуло.
Радуются все. Торокинскую бабку добром поминают:
— Это она всем нам дорожку показала. Только недолго так-то было. Вдруг полный поворот вышел. Вызвал управляющий дядю Васю и говорит:
— Вот что, Торокин… Считаю я тебя самолучшим мастером, потому от работы в заводе не отказываю. Только больше лепить не смей. Оконфузил ты меня своей моделькой.
А прочих, которые по торокинской дорожке пошли — лепить да резать стали, — тех всех до одного с завода прогнал.
Люди, понятно, как очумелые стали: за что, про что такая напасть? Кинулись к дяде Васе:
— Что такое? О чем с тобой управляющий разговаривал?
Дядя Вася не потаил, рассказал, как было. На другой день его опять к управляющему потянули. Не в себе вышел, в глаза не глядит, говорит срыву:
— Ты, Торокин, лишних слов не говори! Велено мне тебя в первую голову с завода вышвырнуть. Так и в бумаге написано. Только семью твою жалеючи, оставляю.
— Коли так, — отвечает дядя Вася, — могу и сам уйти. Прокормлюсь как-нибудь на стороне.
Управляющему, видно, вовсе стыдно стало.
— Не могу, — говорит, — этого допустить, потому как сам тебя, можно сказать, в это дело втравил. Подожди, может, еще переменится. Только об этом разговоре никому не сказывай.
Управляющий-то, видишь, сам в этом деле по-другому думал. Которые поближе к нему стояли, те сказывали — за большую себе обиду этот барский приказ принял, при других жаловался:
— Кабы не старость, дня бы тут лишнего не прожил. Он — управляющий этот — с характером мужик был, вовсе ершистый. Чуть не по нему, сейчас:
— Живите, не тужите, обо мне не скучайте! Я по вам и подавно тосковать не стану, потому владельцев много, а настояще знающих по заводскому делу нехватка. Найду место, где дураков поменьше, толку побольше.
Скажет так и вскорости на другое место уедет. По многим заводам хорошо знали его. Рабочие везде одобряли, да и владельцы хватались. Сманивали даже. Все, понятно, знали — человек неспокойный, не любит, чтоб его под локоть толкали, зато умеет много лишних рублей находить на таких местах, где другие ровным счетом ничего не видят. Владельцев заводских это и приманивало.
Перед Каслями-то этот управляющий на Омутинских заводах служил, у купцов Пастуховых. Разругался из за купецкой прижимки в копейках. Думал — в Каслях попроще с этим будет, а вон что вышло: управляющий целым округом не может на свой глаз модельку выбрать. Кому это по нраву придется?
Управляющий и обижался, а уж, видно, остарел, посмяк характером-то, побаиваться стал. Вот он и наказывал дяде Васе, чтоб тот помалкивал.
Дяде Васе как быть? Передал все-таки потихоньку эти слова товарищам. Те видят — не тут началось, не тут и кончится. Стали доискиваться да и разузнали все до тонкости.
Каслинские заводы, видишь, за наследниками купцов Расторгуевых значились. А это уж так повелось — где богатое купецкое наследство, там непременно какой-нибудь немец пристроился. К Расторгуевскому подобрался фон-барон Меллер да ещё Закомельский. Чуешь, какой коршун? После пятого году на все государство прославился палачом да вешателем.
В ту пору этот Меллер-Закомельский еще молодым жеребчиком ходил. Только что на Расторгуевой женился и вроде как главным хозяином стал.
Их ведь — наследников-то расторгуевских — не один десяток считался, а весили они по-разному. У кого частей мало, тот мало и значил. Меллер больше всех частей получил, — вот и вышел в главного.
У этого Меллера была в родне какая-то тетка Каролина. Она будто Меллера и воспитала. Вырастила, значит, дубину на рабочую спину. Тоже, сказывают, важная барыня — баронша. Приезжала она к нам на завод. Кто видел, говорили — сильно сытая, вроде стоячей перины, ежели сдаля поглядеть.
И почему-то эта тетка Каролина считалась понимающей в фигурном литье. Как новую модель выбирать, так Меллер завсегда с этой теткой совет держал. Случалось, она и одна выбирала. В литейном подсмеивались:
— Подобрано на немецкой тетки глаз — нашему брату не понять.
Ну, так вот… Уехала эта немецкая тетка Каролина куда-то за границу. Долго там ползала. Кто говорит — лечилась, кто говорит — забавлялась на старости лет. Это ее дело. Только в ту пору как раз торокинская чугунная бабушка и выскочила, а за ней и другие такие штучки воробушками вылетать стали и ходко по рукам пошли.
Меллеру, видно, не до этого было, либо он на барыши позарился, только облегчение нашим мастерам и случилось. А как приехала немецкая тетка домой, так сразу перемена делу вышла.
Визгом да слюной чуть не изошлась, как увидела чугунную бабушку. На племянничка своего поднялась, корит его всяко в том смысле: скоро, дескать, до того дойдешь, что своего кучера либо дворника себе на стол поставишь. Позор на весь свет!
Меллер, видно, умишком небогат был, забеспокоился:
— Простите-извините, любезная тетушка, недоглядел. Сейчас дело поправим.
И пишет выговор управляющему со строгим предписаньем — всех нововыявленных заводских художников немедленно с завода долой, а модели их навсегда запретить.
Так вот и плюнула немецкая тетка Каролинка со своим дорогим племянничком нашим каслинским мастерам в самую душу. Ну, только чугунная бабушка за все отплатила.
Пришла раз Каролинка к важному начальнику, с которым ей говорить-то с поклоном надо. И видит — на столе у этого начальника, на самом видном месте, торокинская работа стоит. Каролинка, понятно, смолчала бы, да хозяин сам спросил:
— Ваших заводов литье?
— Наших, — отвечает.
— Хорошая, — говорит, — вещица. Живым от нее пахнет.
Пришлось Каролинке поддакивать:
— О, та! Ошень превосходный рапот.
Другой раз случай за границей вышел. Чуть ли не в Париже. Увидела Каролинка торокинскую работу и давай всякую пустяковину молоть:
— По недогляду, дескать, эта отливка прошла. Ничем эта старушка не замечательна.
Каролинке на это вежливенько и говорят:
— Видать, вы мадама, без понятия в этом деле. Тут живое мастерство ценится, а оно всякому понимающему сразу видно.
Пришлось Каролинке и это проглотить.
Приехала домой, а там любезный племянничек пеняет:
— Что же вы, дорогая тетушка, меня конфузите да в убыток вводите. Отливки-то, которые по вашему выбору, вовсе никто не берет. Совладельцы даже обижаются, да и в газетах нехорошо пишут.
И подает ей газетку, а там прописано про наше каслинское фигурное литье. Отливка, дескать, лучше нельзя, а модели выбраны — никуда. К тому подведено, что выбор доверен не тому, кому надо.
— Либо, — говорит, — в Каслях на этом деле сидит какой чудак с чугунными мозгами, либо оно доверено старой барыне немецких кровей.
Кто-то, видно, прямо метил в немецкую Каролинку. Может, заводские художники дотолкали.
Меллер-Закомельский сильно старался узнать, кто написал, да не добился. А Каролинку после того случаю пришлось все-таки отстранить от заводского дела. Другие владельцы настояли. Так она, эта Каролинка, с той поры прямо тряслась от злости, как случится где увидеть торокинскую работу.
Да еще что? Стала эта чугунная бабушка мерещиться Каролинке.
Как останется в комнате одна, так в дверях и появится эта фигурка и сразу начинает расти. Жаром от нее несет, как от неостывшего литья, а она еще упреждает:
— Ну-ко, ты, перекисло тесто, поберегись, кабы не изжарить.
Каролинка в угол забьется, визг на весь дом подымет, а прибегут — никого нет.
От этого перепугу будто и убралась к чертовой бабушке немецкая тетушка. Памятник-то в нашем заводе отливали. Немецкой, понятно, выдумки: крылья большие, а легкости нет. Старый Кузьмич перед бронзировкой поглядел на памятник, поразбирал мудреную надпись да и говорит:
— Ангел яичко снес да и думает; то ли садиться, то ли подождать?
После революции в ту же чертову дыру замели Каролинкину родню — всех Меллеров-Закомельских, которые убежать не успели.
Полсотни годов прошло, как ушел из жизни с большой обидой неграмотный художник Василий Федорыч Торокин, а работа его и теперь живет. В разных странах на письменных столах и музейных полках сидит себе чугунная бабушка, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбе — вот-вот ласковое слово скажет:
— Погляди-ко, погляди, дружок, на бабку Анисью. Давно жила. Косточки мои, поди, в пыль рассыпались, а нитка моя, может, и посейчас внукам-правнукам служит. Глядишь, кто и помянет добрым словом. Честно, дескать, жизнь прожила и по старости сложа руки не сидела. Али взять хоть Васю Торокина. С пеленок его знала, потому в родстве мы да и по суседству. Мальчонком стал в литейную бегать. Добрый мастер вышел. С дорогим глазом, с золотой рукой. Изобидели его немцы, хотели его мастерство испоганить, а что вышло? Как живая, поди-ко, сижу, с тобой разговариваю, памятку о мастере даю — о Василье Федорыче Торокине.
Так-то, милачок! Работа — она штука долговекая. Человек умрет, а дело его останется. Вот ты и смекай, как жить-то.